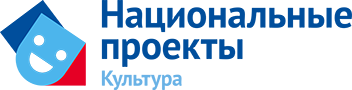Во второй части главы «Художники-киммерийцы» Н. С. Барсамов рассказывает о человеке, который стал настоящим гением места для Коктебеля – Максимилиане Александровиче Волошине. Поэт называл Коктебель своей духовной родиной, но и сам был чем-то вроде отца-основателя наряду с Э. А. Юнге. Именно Волошинский дом был сердцем русской литературной жизни в 20-гг. ХХ века.
Н. С. Барсамов стал автором многочисленных статей и книг о крымских художниках. Но Волошин стал первым, кто обратился к этой теме. Статья «Культура, искусство, памятники Крыма», написанная Волошиным в 1925 году по просьбе Саркизова-Серазини, настоящий манифест киммерийской школы живописи. Личность М. А. Волошина, который к тому времени был уже широко известен, очень интересовала Н. С. Барсамова.
Личное знакомство Н. С. Барсамова с поэтом состоялось в 1923 году. В первый раз Н. С. Барсамов побывал у М. А. Волошина с К. Ф. Богаевским. Дружба двух художников, воскресивших древнее имя «Киммерия», хорошо известна. Они часто навещали друг друга. М. А. Волошин был автором двух статей о творчестве К. Ф. Богаевского. К. Ф. Богаевский создал иллюстрации к поэтическому сборнику М. А. Волошина. «Вид Каллиэры» до поступления в коллекцию галереи хранился в семье Богаевских.
В тот год в жизни Феодосии и Коктебеля многое изменилось: в Доме Поэта создавался новый строй жизни, отличный от «обормотского». Закончилась война, в Коктебель снова потянулись представители литературно-артистического мира, составившие репутацию Коктебеля. За прошедшие годы прежние беззаботные друзья стали взрослее, на их долю выпали серьезные, а порой и драматичные, испытания. Магнитом для них был именно дом Волошина, где атмосфера веселой игры сменялась серьезной работой. Гости писали картины, читали стихи и лекции, вели беседы и дискуссии. В тот год состоялся 1-й Всесоюзный слет планеристов, который стал позже ежегодным и традиционным для Коктебеля.
В 1925 году все гости Волошина были увлечены археологическими раскопками на плато Тепсень. В этих раскопках принимал участие и Н. С. Барсамов. В то лето ему часто доводилось видеть хозяина Дома за работой. Летом, когда дом был переполнен гостями стихи у Волошина «не шли». Зато рядом с другими художниками он писал свои многочисленные акварели, одну за другой, целыми циклами, составившими «коктебельскую сюиту», как это назвал Барсамов.
Сам он попал под обаяние Коктебеля, не без влияния Волошина. Впоследствии Н. С. Барсамов сожалел, что не много писал в тот период в Коктебеле. Этюды, изображающие внешний вид и интерьеры Дома Поэта, были им созданы много лет спустя в 1961 году с разрешения М. С. Волошиной. Они уже овеяны романтической дымкой воспоминаний.
Н.С. Барсамов. Глава «Художники-киммерийцы». Продолжение
Своеобразное дарование К.Ф. Богаевского раньше всех почувствовал М.А. Волошин. Он не только высоко оценил его и предугадал путь его развития, но в какой-то мере содействовал своим поэтическим творчеством развитию искусства Богаевского.
Я знал Волошина как автора блестяще написанных статей о К.Ф. Богаевском, В.И. Сурикове и М.С. Сарьяне.
Первая встреча моя с Волошиным состоялась при несколько необычных обстоятельствах.
Как-то осенним вечером 1923 года, проходя по Феодосийской вокзальной площади, я был привлечен шумом резвившихся ребятишек, с визгом и свистом «ходивших колесом» у ног странно, не по-русски одетого, полного мужчины лет сорока пяти. Он стоял у колонны вокзальной ротонды. На нем была коричневая, сильно поношенная плисовая куртка, плисовые же короткие, по колено, штаны, гетры на полных икрах и грубые, тяжелые — не то туристские, не то солдатские — ботинки. С таким нарядом как-то не вязались крупная кудлатая голова и окладистая борода. Его серые проницательные глаза смотрели вдаль сквозь поблескивавшие стекла пенсне. Это был Максимилиан Александрович Волошин — поэт, искусствовед, критик и мало кому известный в те годы художник. Он выглядел внушительно, эффектно и был по-своему красив. Его рано потучневшая фигура чем-то напоминала портреты Веласкеза.
Это первое впечатление навсегда сохранилось в моей памяти.
Узнав, что Волошин не только литератор, но и художник, я, естественно, навестил его. Обстановка в коктебельском доме Волошина была очень простая, даже, можно сказать, убогая. Столом, на котором Волошин писал свои акварели, служила большая чертежная доска, лежавшая на простых козелках, сколоченных очень примитивно самим Волошиным. Из посылочных ящиков он соорудил нечто вроде бюро, установив их по краю стола. В них он складывал инструменты и материалы.
Однако благодаря большому количеству разных интересных вещиц, картин, скульптур и книг, расставленных на простых стеллажах и полках, дом Волошина выглядел очень обжитым и уютным. Впрочем, в мастерской Волошина было и настоящее старинное бюро и кресло шестидесятых годов, а в столовой стоял очень красивый рояль орехового дерева. Но эти вещи казались случайными. Волошин был абсолютно равнодушен и к обстановке дома, и к музыке.
Всякий раз, бывая в Феодосии, Волошин заходил в картинную галерею и подолгу разглядывал новые картины Айвазовского, довольно часто поступавшие в те годы. Особенно интересовало его изображение лунных ночей на ранних картинах художника. Как-то, всматриваясь в лунный диск на картине «Георгиевский монастырь», Волошин удивился тому, как умело, мастерски передана «география луны». Он как бы проверял на Айвазовском правильность приемов, какими пользовался сам, изображая полную луну на своих акварелях.
Хотя Айвазовского и Волошина разделяет целая эпоха, в творчестве этих двух художников есть сближающие их черты. Оба они создавали свои картины без натуры, «по воображению», и преимущественно в один прием, сразу, как бы импровизируя. Если Айвазовский, наряду с большими сюжетными картинами, иногда писал в течение одного-двух часов маленькие импровизации, то все творчество Волошина последнего периода было именно таким. Не исключено, что Волошин, правильно оценив большие возможности импровизационного метода Айвазовского и достигнув необходимого уровня мастерства, воспользовался примером великого предшественника.
Волошин понимал величину таланта и мастерства Айвазовского и обдумывал план монографии о нем, но так и не успел написать этот труд. Впрочем, остались неосуществленными и многие другие его замыслы, в том числе монография о Сурикове, очень интересно задуманная, но лишь частично написанная и опубликованная.
В начале 20-х годов Волошин приступил к созданию большой коктебельской сюиты, включавшей тысячи акварелей. Это единственный в русском искусстве пример, когда художник-пейзажист, работая на маленьком клочке земли, с исключительным постоянством и последовательностью каждый день находил все новые мотивы для творчества.
Двадцать лет изо дня в день находить и воплощать в живописи бесконечные варианты одной и той же темы мог только очень зоркий художник. Иногда кажется, что этому научила его сама природа. Как среди коктебельской гальки, усеявшей берег моря, нет двух одинаковых камней, так и акварели Волошина чем-то обязательно разнятся друг от друга, несмотря на большое их сходство.
Если подавляющее большинство ранних работ, написанных темперными красками, создано Волошиным непосредственно с натуры, то коктебельская сюита вся написана в мастерской без натуры. Волошин так долго наблюдал и глубоко понял природу Коктебеля, что для него не составляло никакого труда, сидя в мастерской, написать бесчисленное множество композиционных пейзажей.
Художник не пытался воспроизвести на картине определенный пейзажный мотив. Он писал обобщенный образ Коктебеля. Для тех же, кто знает крымскую природу, очевидно, что Максимилиан Александрович изображал совершенно определенное место в Крыму — Коктебель.
Работы Волошина были показаны на многих выставках, устраиваемых галереей Айвазовского. Он охотно предоставлял свои акварели и был доволен, когда они заняли место в постоянной экспозиции галереи.
Волошин очень одобрял идею включения в экспозицию галереи произведений всех феодосийских художников, творчески связанных с мастерской Айвазовского.
Волошина и Богаевского сближала общность их устремлений. Художники были связаны тесной дружбой. В творчестве этих художников были сходные черты, как и в природе мест, какие они изображали.
Образы никому неведомой Киммерии, родины мифических амазонок, стали содержанием творчества Богаевского. Они же волновали Волошина.
Живопись Волошина коктебельского периода неразрывно связана с его поэзией. Поэтические образы у него возникали параллельно с живописными замыслами. Он создал цикл изумительных по яркости и цельности стихотворений о Киммерии.
Характерно, что Волошин часто сопровождал свои акварели стихотворными строфами, углублявшими их содержание. На уголках акварельного пейзажа он в одной-двух строках раскрывал его поэтическое содержание:
Остатки генуэзских крепостей
Еще стоят на страже лукоморья.
К.Ф. Богаевский с большой любовью и почтением относился к дарованию Волошина, а Волошин был первым и самым талантливым пропагандистом искусства Богаевского. Не случайно Константин Федорович как-то сказал: «Мы с Максимилианом Александровичем дополняем друг друга». В этом была большая правда.
Творчество Богаевского в послереволюционный период протекало в мучительных поисках новых образов исторического пейзажа. Живя безвыездно в Феодосии, Богаевский едва ли сумел бы преодолеть многие трудности, возникавшие на его пути. Ему нужны были преданные друзья, поддерживавшие, поощрявшие и популяризировавшие его сложное, не всем понятное искусство. Таким другом был М.А. Волошин.
Блестящие статьи Волошина, опубликованные в самом начале пути Богаевского, раскрыли смысл и значение его творчества и привлекли внимание к своеобразному дарованию феодосийского отшельника. В совместной работе с Волошиным мужало и приобретало глубину мысли искусство Богаевского.
Редко можно встретить двух мастеров, так долго, упорно и плодотворно работавших над одной и той же темой и сохранивших при этом индивидуальные особенности, свой творческий почерк. Взаимно обогащая друг друга, они создали живописный и поэтический образ Киммерии, ставший синонимом восточного Крыма, расширили рамки русской пейзажной живописи.
Волошин был изобретателен в поисках средств выражения своих творческих замыслов. В основу цветовой гаммы акварелей он иногда брал природную расцветку коктебельской приморской гальки, окатанной волнами. Она состоит из блекло-зеленоватых, коричнево-голубых, охристых, серо-дымчатых и других пригашенных цветов. На одних камнях цветовая гамма расположена в виде четких пятен, на других она выглядит как тонкие акварельные размывки сближенных цветов.
Окраска коктебельских камешков создает гармоничные, разнообразные красочные сочетания. Их Волошин и перенес в свои акварели, и это сообщило глубокую органичность его коктебельской сюите.
Конечно, нельзя утверждать, что это был единственный метод подбора красочной гаммы и что, прежде чем браться за кисть, художник обязательно разглядывал приморские камешки, но тем не менее этот метод имел место в его творческой практике.
Нередко можно слышать высказывания о сходстве искусства Волошина с творчеством японских мастеров. В мастерской его и сейчас висит много цветных японских гравюр, увлечение которыми было распространено в Париже в конце прошлого века. Но нам представляется, что это сходство имеет чисто внешний характер.
Горный массив Кара-Даг всегда был у Волошина перед глазами. Он был виден из окна его мастерской, с балкона, с верхней площадки над мастерской. Волошин никогда не пресыщался его видом, и любовь к Кара-Дагу отразилась на многих его акварелях. Он вновь и вновь возвращался к воплощению полюбившегося пейзажа, думая о несовершенстве созданного им. Быть может, работая над очередной акварелью, он как-то записал: «Но сказ о Карадаге не выцветать ни кистью на бумаге, не вымолвить на скудном языке…»
В отличие от патетики этих и аналогичных строф Волошина его живописные образы носят более спокойный эпический характер. Его пейзажи написаны ровно, твердой рукой мастера, без взволнованности, неизбежной при напряженных творческих поисках. Иногда мне кажется, что Волошин, создавая акварели, одновременно слагал стихи и они поглощали все его внимание, акварели же он делал не в полную меру сил и возможностей.
Во второй половине жизни Волошин сузил круг своих творческих интересов, ограничив их Коктебелем. Живописные и поэтические образы Коктебеля, такие самобытные и глубокие, являются самыми яркими страницами его творчества. Его поэтические строфы неотделимы от живописных образов; стихи дополняют и раскрывают содержание многих картин.
Быть может, в тесном слиянии живописи и поэзии и следует искать причину того, что Волошин навсегда оставил работу в портретном жанре и занялся пейзажной живописью.
Как-то Волошина спросили, в какой области он чувствует себя более сильным — в поэзии или живописи. Волошин добродушно ухмыльнулся в бороду, блеснул глазами и сказал: «Конечно, в поэзии».
Это утверждение нисколько не умаляет значения его живописного наследия. Его работы являются новой оригинальной страницей в изображении крымской природы.
Когда Волошин сидел почти неподвижно у окна мастерской и сосредоточенно писал свои акварели, от его грузной фигуры и спокойной позы веяло чем-то похожим на пишущего дюреровского Иеронима. Вся атмосфера мастерской, какая-то просветленная, пронизанная отраженным блеском сияющего моря, была очень близка к тому умиротворяющему покою и мудрой простоте, какие сумел вдохнуть в свою гравюру великий Дюрер.
В последние годы жизни Волошин стал немногословен. В 1928 году, глубокой осенью, в один из моих приездов с Богаевским в Коктебель, мы собрались небольшой группой подняться на Кара-Даг. Максимилиан Александрович уже без прежней легкости, но не отставая, шел вместе со всеми.
Говорили, конечно, о Кара-Даге, и я вскользь заметил, что Кара-Даг почему-то напоминает мне дюреровскую акварель, изображающую средневековый замок, стоящий на скалистой горе. Прошли с полкилометра. Разговор пошел о другом, как вдруг Максимилиан Александрович остановился и спросил: «А кто это сказал о Дюрере? Это очень верно».
Такой стала манера участия Волошина в разговоре. Иногда он подолгу молча сидел за общим столом, слушал вполуха, о чем говорят его гости, и как будто даже успевал вздремнуть; а потом, уловив нить разговора, включался в него и сразу поднимал интерес к беседе.
По натуре Волошин был медлителен, спокоен, но иногда его «прорывало», и он, как говорится, «ради красного словца не жалел ни мать, ни отца».
Деятельность Волошина была разносторонней. Помимо живописи, поэтического творчества, искусствоведения, он, будучи знатоком французской литературы, занимался переводами. Его переводы с французского высоко ценились в литературных кругах.
Волошин пытался утвердить в Коктебеле образ парижской богемы, вольный дух Монмартра. В летние месяцы в его доме царил веселый ералаш. Впрочем, сам Волошин, как мне кажется, не умел веселиться. Я даже не помню его смеющимся. Он всегда был общителен и приветлив, любезно улыбался, но это было от воспитания.
В характере Волошина было какое-то непреодолимое влечение к мистификации. Однако безобидное гаерство парижской богемы, перенесенное на русскую почву, в российскую действительность, иногда приобретало явно неуместный характер, было не всем понятно, а порой вызывало у окружающих недоброжелательное отношение к Волошину.
Кто только не посещал дом Волошина! Здесь бывали крупнейшие русские писатели, художники, артисты, еще больше людей, в какой-то степени соприкасавшихся с искусством; они работали, отдыхали, а по вечерам собирались на плоской крыше мастерской, читали стихи, обменивались мнениями, беседовали об искусстве.
Максимилиан Александрович был талантливым рассказчиком; часто он читал свои новые стихи, и они звучали в вечерней тишине, едва нарушаемой шорохом волн, как-то особенно проникновенно и убедительно. В такие вечера слушатели начинали верить его рассказам о том, что здесь, у этих берегов, некогда проплывала ладья Одиссея, а вот на этом плато лежал большой средневековый итальянский город Каллиэра… Самые неожиданные и фантастические утверждения поэта приобретали некую достоверность, и образы древних легенд возникали перед слушателями, как живые.
А наутро Максимилиан Александрович писал акварелью созданную его воображением Каллиэру, окруженную крепостными башнями с бойницами, обращенными в сторону степи. А в углу мастерской, на полке, вам показывали выброшенный морем изъеденный древоточцем кусок доски, окованной медью, и с серьезным видом уверяли, что это и есть обломок той самой ладьи, о которой вчера так поэтически рассказывал Волошин.
И пусть Одиссей никогда не проплывал у Кара-Дага, и археологическими раскопками установлено, что на коктебельском плато не было итальянского города Каллиэры, — для Волошина это не имело значения. Ему был нужен удачный вымысел, остроумная догадка. Это давало толчок творческому воображению.
Волошин умел придать фантастическому вымыслу видимость правдоподобия; это подхватывалось молвой, и создавалась легенда.
Шли годы. Живописные произведения Волошина получили широкую известность и признание. Его акварели пользовались успехом на выставках в Москве, Ленинграде, Феодосии, Одессе.
В конце двадцатых годов здоровье Волошина пошатнулось и он начал быстро угасать. 19 декабря 1929 года в тревожном письме по поводу болезни М.А. Волошина К.Ф. Богаевский писал: «Вид его мне очень не понравился, он точно наполовину уже вне жизни, и на лице какая-то детская застывшая улыбка. Отвечает он только на вопросы, да и то туго, медленно. Больно мне было видеть его в таком духовно потухшем состоянии… точно он не слышал и не видел ничего… Сейчас Максу прописали полнейший покой… Повидав Макса в таком печальном состоянии, мне не верится уже больше в его духовно-творческую работу. Он сам сказал, как будто в шутку, что его астральное тело кем-то похищено… Все это бесконечно грустно».
Максимилиан Александрович сознавал, что дни его сочтены, но держался стоически. Лечивший его феодосийский врач М.С. Славолюбов старался облегчить страдания больного. На обычный вопрос врача: «Ну, как вы себя чувствуете, Максимилиан Александрович?» — он неизменно отвечал: «Благодарю вас, Михаил Сергеевич, очень хорошо»… А где уж там хорошо… И так до последнего дня.
Умер Максимилиан Александрович Волошин 14 августа 1932 года. Он завещал свой дом Союзу советских писателей для организации в нем творческого дома отдыха.
Трудами и заботами вдовы Волошина Марии Степановны все в мастерской сохраняется в том же виде, как было при жизни Максимилиана Александровича.
Как-то неожиданно ушел из жизни М.А. Волошин. И я очень сожалею, что мне, занятому самыми разнообразными делами, не хватило времени написать его портрет, о чем я давно мечтал. Только летом 1961 года, работая в Коктебеле, я написал, с согласия Марии Степановны, три интерьера в мастерской и в кабинете Максимилиана Александровича.

М.А. Волошин. Вид Каллиэры. 1925 г. Бумага, акварель

М.А. Волошин. Голубой залив. 1928 г. Бумага на картоне, акварель

М.А. Волошин. Панорама Коктебеля. 1920-е гг. Бумага, акварель

Н.С. Барсамов. Коктебель. Дом Волошина. Картон, масло.

Н.С. Барсамов. Коктебель. Кара-Даг. 1961 г. Картон, масло

Н.С. Барсамов. Дом поэта М.А. Волошина. Летний кабинет. 1961 г. Холст, масло.

Н.С. Барсамов. Дом поэта М.А. Волошина. Интерьер мастерской. 1961 г. Холст, масло.

Н.С. Барсамов. Дом поэта М.А. Волошина. Летний кабинет. Интерьер. 1961 г. Холст, масло.

М.А. Волошин в мастерской за работой.

М.А. Волошин в мастерской за работой.